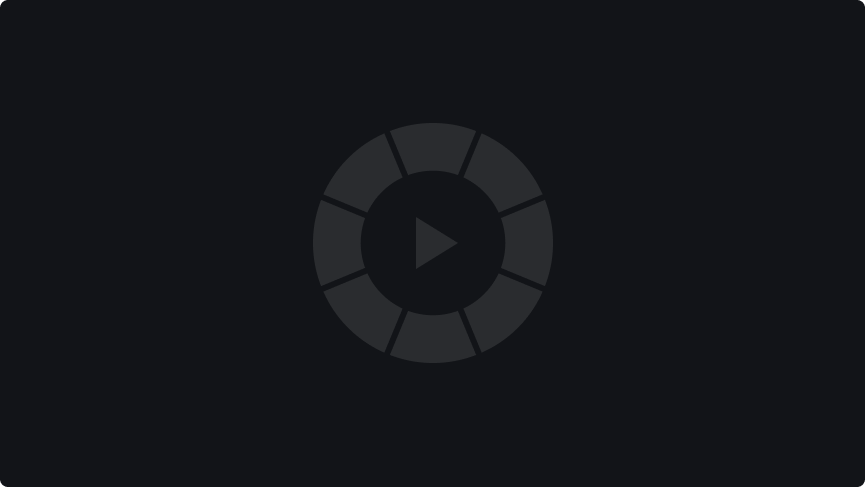Андрей Кончаловский: Лучшее, что может сказать зритель: «Как ты это сделал?!»
В своем первом большом интервью после долгого перерыва, которое режиссер Андрей Кончаловский дал телеканалу «МИР 24», он рассказал о том, почему в театре он ставит только самые великие произведения и чьи пьесы он бы поставить не смог, а также поставил диагноз Западу, пытающемуся при помощи социальной инженерии вынести за скобки русскую культуру – это его попытка опередить собственный распад.
– Мы беседуем в театре Моссовета. Андрей Сергеевич, скажите, вы часто бываете на своих спектаклях, и бывает ли так, что вы пропускаете спектакли?
Андрей Кончаловский: Это ужасно, бывает пропускаю, но, как правило, я здесь. Иногда я хожу на свои спектакли инкогнито, чтобы прищучить какого-нибудь артиста. И они хоть и знают, что я могу не присутствовать на спектакле, но они думают, что я там.
Фильм – это снаряд, его смонтировал, и он дальше уже летит, и сделать ничего нельзя, а спектакль – управляемое летающее устройство. Если режиссер сидит на спектакле – спектакль дышит. Я очень люблю давать новые идеи, чтобы спектакль жил. Иногда нужно давать пенделя. Это живая вещь. Но это помогает спектаклю не умирать. Потому что, когда спектакль начинает проседать, оплывать – тогда его лучше уже не играть. Для меня очень важно приходить на спектакль и продолжать его ставить.
- Вы сказали, что вы иногда приходите инкогнито. Я вспомнил историю, которую мне рассказывал один дальний родственник. Он был на репетиции заслуженного коллектива республики, Ленинградского оркестра, и вдруг они стали играть по-другому, в зал вошел заслуженный дирижер Евгений Мравинский, они его даже не видели, но почувствовали его приход. А актеры, чувствуют ли они, что вы в зале или нет?
Андрей Кончаловский: Даже если меня нет на спектакле, то пусть актеры чувствуют, что я там есть. Я стараюсь быть на спектаклях: держаться за руки, войти в начало, иногда сказать что-то беспримерно грубое, чтобы не обидеть, но возбудить.
Ты напомнил про Мравинского, и я тоже вспомнил, что так же, как и у дирижеров бывает разный стиль, так же бывает и разная режиссура. Есть те, кто дирижирует и даже забывает про оркестр, так активно он дирижирует. А бывают дирижеры, тот же Мравинский, который с минимумом движений добивался невероятной игры. Никаких эмоций, никаких выражений во вне. Потому что есть абсолютная связь между дирижером и оркестром. Я этой связи даже завидую. Так и в режиссуре можно ставить спектакль, не размахивая руками, главное – зажечь, заразить артиста, и тогда он начинает сам творить. Это очень сложная тема и интереснейшая – взаимоотношения режиссера с артистами. Мы все немного режиссеры, потому что он демиург – он становится диктатором, он может делать ужасные вещи: кричать, командовать. А есть те, кто просто выходит, тихо говорит, и все начинает работать. И я никак не могу добиться этого внутреннего покоя, покоя не равнодушия, а понимания как артисту помочь.
– У вас так интересно происходит разделение на театр и кино. В кино вы каждый раз даете новые сюжеты, а в театре – самые великие произведения. Наверняка же вам дают какие-то новые пьесы, новую прозу. Они, на ваш взгляд, для театра не годятся?
Андрей Кончаловский: В театре я ставлю только самые великие произведения. Масса вещей годится для театра. Но речь же об иллюзии философского камня, который надо как-то отковырять. Я не насытился проблемами, как сложно ставить Шекспира, Софокла, Чехова или Стриндберга – это непроницаемые черные ящики, вещи в себе с огромной тайной. Можно их внешность как-то «царапать», а можно, как на стеклянную пирамиду, лезть и сползать обратно. Можно видеть в темноте улыбающееся лицо Софокла или Шекспира. С Чеховым все понятно, он прямо рядом сидит за мной. Но. Вот Шекспир. Я всех убеждаю и себя убедил, что он писал пьяный. Он писал все в таверне. И там же без эля ничего не проходило. Он писал пьяный, и поэтому он позволял себе протуберанцы. Я себе представляю Шекспира так, как он описан у Пастернака: и он бросил в приведение салфеткой, он беседует... А потом оказывается, что это привидение. Трезвый человек вряд ли так будет делать. Это всегда смесь гения и хулиганства, балагана чистого, даже в больших трагедиях, и Небес. Для меня, смесь Небес и балагана – это Шекспир, это целый мир.
Чехов же – другой мир – мир ничего несделанного, неоконченного, бесконечного присутствия, где ничего не происходит, все происходит за кулисами или в промежутке между актами. Этот поиск великих – это самое интересное для меня.
Я бы никогда не смог поставить Ионеско, который потрясающий автор. Я видел два спектакля Ионеско. Это Питер Брук и Саймон Макберни – это было куда лучше. Я не мог себе представить, что можно смотреть Ионеско и плакать. Но для этого надо быть как Саймон Макберни – таким гениальным режиссером. Вот поэтому – классики. Как говорил Эйнштейн, главное – понять замысел Бога, все остальное – детали.
- Вы практически подвели уже к следующему вопросу, наверное, вам уже говорили, что во время пандемии ваши мысли, размышления о жизни, как у Паскаля, как у Ларошфуко, они поддерживали людей и меня в том числе. И вы как-то сказали, что главный вопрос, на который надо найти ответ – это вопрос «Зачем мы живем?». Насколько возможно найти этот ответ, и было ли у вас хоть раз ощущение, что вы его нашли?
Андрей Кончаловский: Я сам не нашел, но мне подсказали. Есть такой философ интересный, английский – Джон Грей (Джон Николас Грей, британский политический философ), к сожалению, на русский он вообще не переводился. Он много пишет о то, почему религия необходима, почему она иррациональна и не может иметь научного подтверждения. Он говорит: человеку нужна иррациональная вера. Рационально не вера, а знание. Он говорит, что мы живем для того, чтобы видеть. Когда думаешь о том, что это единственное близкое объяснение – отсутствие объяснения. И когда ты думаешь о том, что «чтобы видеть», ты не можешь видеть, не размышляя. Это единственное, что мне кажется, имеет смысл.
В разные моменты времени разные люди тебе подсказывают смыл жизни. Есть такой Виктор Франкл (австрийский психиатр, психолог, философ и невролог), он говорит о множественности смыслов жизни, что они меняются у думающих людей. Он также говорит, что иногда какой-то смысл жизни может быть важен для одного какого-то поступка.
– Не могу не спросить про ваш кинопроект. Я даже звонил людям, которые были похожи на кого-то из тех исторических фигур. Это был или Распутин, или еще кто-то. Это был проект, посвященный революции в России, он был задуман еще восемь лет назад. И вы ищете людей похожих на Ленина, на Сталина и так далее. Кого было тяжелее всего найти?
Андрей Кончаловский: Могу сказать, что с этим до сих пор трудно. Я нашел, можно сказать, но я не уверен, что я нашел. Может быть, есть что-то лучше. Дело в том, что люди моего поколения учились в заведениях, где учили историю. Для меня фигуры Ленина, Сталина, Николая, Троцкого и даже Свердлова абсолютно понятны и выгравированы, можно сказать. Я не могу почувствовать соотношение того, что я вижу, с тем, что должно быть: и физически, и поведенчески. Я даже не говорю про артистов, я говорю про фигуры. Если нашел правильных, то нужно им не мешать. И это очень сложная вещь. Я мучаю всех моих ассистентов по актерам и пытаюсь добиться максимального сходства: внутреннего, физического и сущностного. Это очень сложно. И потом придется врать и молиться, чтобы никто не заметил. Потому что самое лучшее, что кто-то может сказать, посмотрев твой фильм или спектакль – «Как ты это сделал?» В кинематографе дело не только в том, кого ты нашел, а в том, как ты его снял, и даже в каком свете он сидит. Там масса других возможностей показать его – это не чисто актерское приспособление, это целый комплекс тонкостей, к которому я пришел сам. К сожалению, этому не учат.
– В фильме «Микеланджело» вам удалось создать ощущение запахов. Когда ты смотришь фильм, ты прямо физически ощущаешь нечистоту всей их жизни. Это не всегда удавалось даже снимавшему про то время Пазолини.
Андрей Кончаловский: Знаешь, кому удалось – «Королева Марго» Патрис Шеро. Он абсолютно почувствовал период – XVII век. Я много у него заимствовал, в том смысле, что он меня вдохновляет. Меня два человека вдохновляют фактурой – Куросава и Патрис Шеро в этом фильме. Есть, конечно, и другие люди, у которых я заимствую что-то.
– Вы режиссер, имеющий широкое международное признание. Возможна ли сейчас какая-то ситуация, когда русская культура будет вынесена за скобки? Или сейчас с этим даже нелепо спорить, потому что это невозможно?
Андрей Кончаловский: Я думаю, что это возможно, особенно на Западе возможно. Потому что западное устройство массмедиа и пропаганды строится на научных основаниях, на основаниях социальной инженерии. Чем больше люди смотрят в Iphone, а сейчас люди без него просто не живут, особенно молодые поколения, тем больше они манипулируемы. Социальная инженерия сегодня невероятно виртуозна. Цветные революции, русофобия. Это же инженерия, когда итальянский режиссер Лука де Фуско пишет мне: «Ты живешь в стране, которая такая-то и такая-то». Я ему ответил: «Лука, давай посмотрим через шесть месяцев, давай не будем сегодня». Социальная инженерия сегодня настолько сильна. И как Сергей Капица говорил, что все ниже и ниже интеллектуальный уровень: людей интересует, кто что надел, что купил, кто развелся. Их уже не интересует, почему долларов так много печатают. Поэтому сегодня за рамки можно абсолютно вывести русскую культуру. Потому что человек ее не знал и не будет знать. Это не означает, что это будет постоянно, это может быть и временно, я не знаю. Да, возможен второй ренессанс, когда снова Европа откроет для себя русскую культуру, как она когда-то открыла для себя античную культуру. Это я допускаю. Это вовсе не означает, что русская культура перестанет существовать в странах Азии: в Индии, Китае, Японии. В Японии с ума сходят по Достоевскому, в Китае – по музыке Чайковского, там никто ничего не запрещает. Также и в Латинской Америке. Но для Запада это попытка опередить собственный распад.